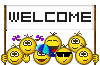Две наши главные цели в Лояне – посетить монастырь Шаолинь и буддийские пещерные храмы Лунмынь. Экскурсии у нас запланированы на следующий день, поскольку в Лоян мы пребываем поздно, вечером, и это почти на 1900 лет позже, чем сюда добрался монах Ань Шигао, с целью распространения буддийских идей. Задачу перед собой он поставил просто неподъемную, это вам не крещение Руси, нужно было разагитировать китайцев, стойких приверженцев идеям Конфуция и (или) Лао-цзы. В принципе Будду Шакьямуни, Конфуция и Лао-цзы можно считать современниками, плюс-минус сто лет просто погрешность, родившимися на пять с хвостиком сотен лет раньше Христа. Среди этой святой троицы наиболее историчен Конфуций. Известно где, когда и как (обычным способом) появился на свет, кто его родители, что писал и проповедовал, когда и где умер. Эпоха, доставшаяся на его долю, в Китайской истории называется весьма поэтично, собственно сам Конфуций её так и назвал, период Вёсен и Осеней. Говоря прозой, это период феодальной раздробленности, единого Китая не существовало, многочисленные царства и княжества воевали друг с другом, вели переговоры, составляли коалиции, потом снова воевали, воевали не только оружием, но и идеями, с идеями воевали тоже. Одним словом, философско-этическая система Конфуция, описывающая идеального правителя и идеальных подданных, пришлась ко времени, но не всем ко двору. Поскольку не каждый, правители не исключение, идеален, а многие даже не хотят и не собираются к этому стремиться. Первым китайским императором, сделавшим Конфуцианство государственной религией, был открыватель Великого шёлкового пути У-ди. Конфуцианство базируется на пяти столпах или постулатах: И, Ли, Чжи, Синь и Жень. Каждое, само собой, обозначается своим иероглифом. «И» - это праведность, справедливость. «Ли» – обычай, ритуал, традиция. «Чжи» - здравый смысл, мудрость. «Синь» - искренность и добросовестность. «Жень» - гуманизм и доброжелательность. Каждому постулату, так доходчивее, соответствует один из первоэлементов или начал мироздания, это соответственно металл, огонь, вода, земля и дерево, воздух куда-то испарился. Исторически, как мы теперь можем сказать, Буддизм одержал победу над Конфуцианством, но эта победа в Китае не была окончательной и бесповоротной. И сегодня в Пекине сохранился храм Конфуция, там тихо, спокойно, растут и не сохнут тысячелетние кипарисы, во всяком случае, так было 25 лет назад во время нашего предыдущего визита в Китай, в этот раз визит туда не запланирован.
Бороться или соперничать Конфуцианству пришлось не только с Буддизмом. Как сказал бы какой-нибудь китайский Александр Невский: «есть враг ближе, опасней», и это, безусловно, Даосизм. Отец-основатель «Учения о Дао» Лао-цзы личность мифическая, туманная, впрочем, как и его учение, больше основанное на вере и убеждении, чем на логике и знаниях. Само его имя Лао-цзы уже оксюморон, что-то типа «Старый младенец» или «Юный старец». Некоторые легенды утверждают, что жил он две сотни лет, треть из которых провёл в утробе, появился из бедра матери, привет буддистам, сразу с седыми волосами, что для семидесятилетнего вполне естественно. Его главный труд, библия Даосизма – трактат Дао Дэ Цзин, дословный перевод что-то вроде «достойный путь» или «дорога через достоинство». Разумеется, китайский язык, а тем более письменность более многозначна и глубока. Основные понятия 81- главого труда это «дао» и «дэ», логично, «цзин» – просто предлог «через». Если начать переводить Дао Дэ Цзин на европейские языки и понятия, получится примерно следующее «Вначале было Дао, Дао было и у бога, возможно бог и был тем самым Дао…». Дословный перевод «дао», как уже догадался читатель, это дорога или путь понимаемая общо, и та, по которой мы, шутя, прогуливаемся, и по которой мы идём по жизни, и та, по которой несётся наша судьба, наша цивилизация, наша галактика. Синонимы, во всяком случае у китайцев, «суть», «закон», «бытиё», понимаемые не по отдельности, а вкупе. Если мы движемся по дороге, нас что-то должно по ней вести или толкать. У Лао-цзы это «дэ», некая универсальная жизненная сила, энергия, делающая наше «дао» не только возможным, но и осмысленным. Вступив на эту скользкую дорожку даосизма, мы быстро убедимся, что наше «дао» практически сразу «раздвояется», хорошо, раздваивается на «инь» и «ян», чёрное и белое, женское и мужское, мягкое и твёрдое, низ и верх. Поскольку у Лао-цзы только два первоэлемента, а у Конфуция целых пять, его, хотите философия, хотите религия, оказалась ближе народу, Конфуцианство же нашло поклонников среди аристократии и чиновников. Существует даже апокриф о встрече этих двух персонажей. Утверждается, что Лао-цзы сказал Конфуцию что-то вроде: «брось ка ты фигнёй заниматься». Конфуций же после их встречи высказался о Лао-цзы более уважительно: «Какая глыба?! Какой матёрый человечище!». Впрочем, по другой полярной версии Конфуций и Лао-цзы это один и тот же человек. Признание к Лао-цзы, как и к Конфуцию, пришло не сразу. Первым императором, поощрявшим даосизм, был папа У-ди Цзин-ди из династии Хань, оно и понятно – основателем её был простой крестьянин.
Довольно демократичной религией был и буддизм, быстро приобретший себе многочисленных сторонников в разделённой на варны и касты Индии, где далеко не все были довольны очередным поворотом Сансары и своим нынешним воплощением. Распространение буддизма за границы страны связывают с именем Ашоки, царя империи Мауриев, посылавших своих проповедников как на юго-восток (Бирма, Цейлон), так и на северо-запад в Центральную Азию. К тому времени, середина третьего века до нашей эры, Александр Македонский уже омыл свои сапоги в Индийском океане, более того, его великая империя уже раскололась на множество кусков, в одном из которых, довольно крупном, раскинувшимся от Каспия и Арала почти до Аравийского моря, Греко-Бактрийском царстве (это территория современных Пакистана, Афганистана, Ирана, Туркменистана) на всю катушку работал «плавильный котёл», где «дети разных народов» свободно обменивались не только генами, но и идеями. Олимпийские боги мирно уживались с зороастризмом и индуизмом. Вот туда-то буддизм вошёл как нож в масло, породив такой феномен, как греко-буддизм, и грандиозные, высеченные в скалах Бамианской долины статуи Будды тому свидетели, уже в нашем веке уничтоженные талибами. Статуи в Лунмыньских пещерах, которые мы вот-вот начнём осматривать, уступают размером, но не искусством исполнения. Как отец китайского буддизма Ань Шигао попал в Лоян доподлинно неизвестно… может быть «весенним утром ранним прискакал на розовом коне». Во всяком случае, точно по Великому шёлковому пути, пересекающему в том числе и Греко-Бактрию, широкой дороге с двусторонним движением, возникшей вследствие насущной потребности Китая в ряде товаров, в частности в боевых скакунах. Время, правда, было уже немного другое, середина второго века нашей эры, на месте Греко-бактрийской державы широко раскинулось Кушанское царство, управляемое Канишкой ревностным поклонником буддизма. В Лояне Ань Шигао начал не с высекания статуй, а с перевода буддийской классики на китайский язык, благо было на чём – бумагу в Китае изобрели за 43 года до его появления. Многометровые каменные статуи Будды стали появляться в Китае ещё на 200-300 лет позже. За это время буддизм в Китае прошёл нелёгкий, тернистый и извилистый путь, впрочем, как и сам Китай. Сначала было сравнительно легко, ханьский император Хуань-ди приносил одинаковые жертвы и Лао-цзы, и Будде, не повредит, а может и поможет. Тогда же по стране начала гулять байка, что Лао-цзы в одном из своих путешествий повстречал принца Сиддхартху Гаутаму, стал его учителем, и именно под руководством учителя Сиддхартха достиг просветления, став Буддой Шакьямуни. Кто придумал эту легенду, даосы для борьбы с крепшим не по дням, а по часам буддизмом, или буддисты для популяризации своего учения, неизвестно. Дальше дела пошли хуже. Нелёгкие времена наступили и для Китая, и для учения Будды.
Возникнув, буддизм сначала представлял собой скорее этическое учение, чем религиозное. Из двух наполняющих Канта благоговением вещей: звёздного неба и нравственного закона, ранний буддизм интересовался только второй и напрочь игнорировал первую. Узнав, что в мире существует страдание, царевич Сиддхартха, усевшись под деревом Бодхи (Ficus religiosa), сформулировал Четыре Благородные Истины: в мире есть страдание; причина страданий – жажда удовольствий; от страданий можно и нужно избавиться; избавление от страданий ведёт к нирване. Просветлев и превратившись в Будду, Гаутама сформулировал Восьмеричный путь, ведущий к нирване, это правильное воззрение; правильное намерение; правильная речь; правильное поведение; правильный образ жизни; правильное усилие; правильное рассуждение; правильное сосредоточение. Когда же ученики приставали, словно с ножом к горлу, с вопросами типа «кто и как создал этот мир», отвечал притчами (никого не напоминает?) вроде «если вам в сердце летит стрела, какая разница, кто и как её запустил». Потом Будда ушёл в нирвану, а его учение стали проповедовать ученики. Буддизм, как и любая религия, покоряя новые народы, изменял их мировоззрение, но и менялся сам, абсорбируя местные мифы и представления, пополняя свои постулаты. И даже расколовшись надвое, похоже, это судьба всех мировых религий, устоял вопреки известной максиме. Главные осколки некогда единого учения: Махаяна (большая колесница, даосы сказали бы путь) и Хинаяна (малая) разошлись окончательно лет за тысячу до Великой христианской схизмы, что и констатировал четвёртый буддийский собор в Кашмире. Хинаяна, сейчас её более политкорректно называть Тхеравадой (учение старцев) оказалась более консервативной, исповедуя путь в нирвану в соответствии с известным принципом «спасение утопающего - дело рук самого утопающего». Махаяна допускает же на это большом и тернистом пути существование многочисленных помощников Бодхисатв, работающих под лозунгом «сделал сам, помоги товарищу». Сегодня приверженцев Махаяны втрое больше тхеравадистов, видимо, за счёт Китая, ознакомившегося с Буддизмом именно в этой интерпретации. Первое, что бросается в глаза при посещении Махаянских святилищ, это наличие статуй разных персонажей, тогда как в Хинаянских статуи одного персонажа Будды Гаутамы или Шакьямуни, застывшего в разных позах. Теоретикам буддизма удалось доказать, что и до Шакьямуни существовали другие будды, по одним подсчётам 27 по другим 6, это так называемые будды прошлого, но в нашу кальпу (временной промежуток в 4 с хвостиком миллиарда лет) всего трое Какусандха, Конагамана, Кассапа. Подобных идей буддизм явно поднабрался у индуизма, а вот о явлении спасителя, мессии, будды будущего Майтреи, «того, кто есть любовь» явно узнали у христиан или иудеев, взваливших себе на плечи нелёгкую ношу по финансовому обслуживанию курсировавших по Великому шёлковому пути разноплемённых купцов.
Мыслить категориями разных кальп довольно затруднительно, а вот о смене ненашей эры на нашу, можно. Начало нашей эры ничего хорошего не предвещало, войны, конфликты, массовое переселение народов, раскололся не только Буддизм, но и имперский Китай. Сначала натрое, эпоха Троецарствия, несколько позже кочевники хунну массово вторглись в Северный Китай, образовав, это тоже период истории Китая, 16 варварских государств. На частично риторический вопрос в такой ситуации: куды крестьянину податься? Был дан ответ – в религию, а именно в буддизм, сосредоточенный на внутреннем мире человека и почти открыто проповедующий «непротивление злу насилием». В одном из государств раздробленного Китая Северном Вэй к власти в 452 году пришёл император-буддист Вэньчэн-ди, он в 453 лишил статуса государственной религии даосизм, введённый его дедом Тайу-ди и прекратил преследование буддистов. Поворот был столь резким, что сын Вэньчэн-ди, став в 11 лет императором, просидел на троне всего 6 лет, после чего отрёкся, сосредоточившись на религиозных практиках. Его сын Сяовэнь-ди царствовал ощутимо дольше 28 лет, но он и начал раньше – в четырёхлетнем возрасте. При нём столица государства переехала в Лоян, 494г., и началось создание буддийского комплекса Лунмынь – Драконовы врата, к осмотру которого мы, наконец, переходим.
Для начала знакомимся со статистикой: пещер или гротов более двух тысяч, скульптурных изображений раз в 50 больше, посетителей, пожалуй, поменьше, чем изображений, но тоже изрядно. Это особо не мешает - комплекс растянулся на километр, скорее наоборот - есть с кем поделиться восторгом, обменяться впечатлениями и сделать совместные групповые фото, китайцы обожают фотографироваться с туристами. Москва не сразу строилась, гроты Лунмынь тоже, высекать статуи в каменной породе –процесс трудоёмкий. Начали в период Южных и Северных династий, а заканчивали в эпоху Империи Тан, одной из несомненных вершин китайской культуры, убедиться в этом можно и на примере гротов Лунмынь, уж больно отличаются статуи, вырезанные в разные эпохи. Большинство из 100 тысяч изображений это, разумеется, Будда Шакьямуни, либо один, чаще; либо с учениками, реже. Если вдруг увидите трёх одинаковых на первый взгляд будд, не обязательно в пещерах Лунмынь, а в любом буддийском храме, знайте это Будды трёх времён, прошлого, настоящего и будущего, Дипанкара, Шакьямуни и Майтрейя, соответственно. Своеобразная буддийская троица, но не совсем, поскольку троица христианская это разные воплощения одной и той же сверхъестественной сущности. В буддизме тоже есть нечто подобное, но там речь идёт уже не о триединстве, берите выше, о пяти. Это так называемые Пять Будд Высшей Мудрости, представляющие собой разные аспекты изначального, достигшего нирваны Будды. Главным, он располагается в центре, является Вайрочана, сияющее солнце, наиболее полно воплощающий сознание идеальной гармоничной личности. Остальные четыре будды располагаются по бокам или, если на картинке, по сторонам света. В этом случае Будда Акшобья соответствует форме, располагается на востоке и имеет синюю кожу, поскольку символизирует воду. Амитабха располагается на западе, отвечает за образное мышление – представления, бесконечно добр, цвет кожи красный, стихия – огонь. На севере диком «царит одиноко» Амогхасиддхи, сфера его ответственности воля и опыт, бесстрашен, цвет кожи зелёный, стихия - воздух. Оставшееся южное направление курирует Ратнасамбхава, отвечающий за ощущения, кожа жёлтая, стихия – земля. Всё, отступление закончилось, теперь мы с читателем готовы насладиться главным сокровищем Лунмыньских пещер храмом Фэнсянь, «срубленном» в середине седьмого века. Преодолеваем 90 ступеней и застываем у каменного шедевра. Посредине 17-ти метровая статуя Будды Вайрочана, немного попорчен пьедестал, отбиты кисти рук, но верхняя половины статуи сохранилась идеально. Черты спокойного миловидного лица скорее женские, чем мужские. В принципе для классического будды это характерно, он по буддийским меркам находится на той ступени развития, где мужчина уже не отличается от женщины, гармонично соединяя в себе лучшее от обоих полов, но в данном конкретном случае женское превалирует, и это, оказывается, неспроста. Статую ваяли с натуры, а натурщицей была сама У Цзэтянь, жена императора, мать двух императоров и сама император, единственный случай в Поднебесной, правившая страной четыре десятка лет, прямо китайская Хатшепсут. Давайте ещё раз вглядимся в её лицо и постараемся уловить его выражение, невозможно, прямо китайская Мона Лиза, и если бы эта статуя не была создана лет за 700 с лишком до рождения Леонардо, можно было предположить, что он и является автором, тогда запустим другую конспирологическую версию – Да Винчи вдохновлялся этой статуей при работе над своим шедевром, изображение которой он углядел в книжке земляка Марко Поло. Разумеется, У Цзэтянь была не только моделью, но и основным заказчиком, у неё с буддизмом свои непростые отношения. Попав в гарем императора Тай-цзуна на должность «младшей наложницы», дослужилась до «талантливой», но фавориткой так и не стала. После смерти Тай-цзуна была отправлена в буддийский монастырь, таков регламент, но проведя там 5 лет, вернулась в императорский гарем, не иначе помогли молитвы, к сыну Тай-цзуна Гао-цзуну, где уже дослужилась до императрицы. С Буддой Вайрочаной в храме-пещере Фэнсянь соседствуют ещё 4 фигуры, по две с каждой стороны. Проще всего их объявить недостающими четырьмя Буддами Мудрости, но видимо это не так, уж больно разные персонажи. Крайние, безусловно, кто-то из высокопоставленных Будд, они при коронах в богатой одежде, руки, те, что не отбиты, сложены в характерный ритуальный жест. Это так называемая на санскрите Витарка Мудра, большой и указательный палец соединены в кольцо, остальные прямые, практически о`кей, означает передачу учения Будды. Оставшиеся двое неизвестных, один сильно подпорчен вандалами, явно не будды, максимум бодхисатвы, они и росточком пониже, скромные одежды, бритые головы, скорее всего ученики или монахи, символизирующие единый блок если не коммунистов и беспартийных, как на государственном флаге КНР, то людей и божеств. Кто же посмел так искалечить священные фигуры? Неужели их никто не охранял? Буддийские небеса устроены сложно и состоят из многих сфер. В высших сферах, где уже ни форм, ни чувств, ни желаний за буддой Вайрочаной присматривает оставшаяся четвёрка Будд Высшей Мудрости, по одному на каждую сторону света. На дальних подступах, на склонах священной горы Меру, которая и является порталом в буддийский рай, несут караул четыре Небесных Царя, по-китайски Сы тяньван, наша гид почему-то называла их Небесными Генералами, их можно увидеть практически в каждом буддийском храме в Китае. Свою боевую позицию «генералы» держат строго в соответствии с компасом, ещё одним китайским изобретением. Главный у них «всеслышащий» Вайшравана, по-китайски Довэньтянь, «тянь» - небо на том же языке, расположился он на самом опасном направлении – северном, цвет кожи у него жёлтый, в руках зонтик, сильно смахивающий на копье. «Всевидящий» Вирупакша или Гуанмутянь с красным, как варёные раки лицом следит за Западом, повелевает змеями, а в руках держит ступу или раковину. «Покровитель роста» Вирудхака или Цзэнчантянь – самый грозный, цвет кожи синий, в руках меч, прикрывает Меру с юга. Оставшийся восток стережёт самый изысканный и утончённый Дхритараштра или Чиготянь, имеющий почётный титул «смотритель земли», с белым лицом и лютней в руках, именуемой на китайском пипой. Попытались Небесные Цари сохранить в неприкосновенности и наш Фэнсянь, заняв позицию у входа по двое с каждой стороны, но в неравной борьбе частично пострадали сами. Левую пару «срубили» почти до основания, зато правая, Гуанмутянь со своей ступой и ещё один мной неопознанный, поскольку без своих атрибутов, дошла до нас практически в идеальном состоянии. Четыре Небесных царя легко бы справились с нагами, асурами, дэвами и другими сверхъестественными существами, но против людей оказались бессильны. Первым на буддизм ополчился У-цзун, 18-й император из династии Тан по вполне понятным причинам, уж больно много власти и богатств сосредоточили в своих руках буддийские храмы и монастыри. Действовал с китайским размахом, имущество конфисковали, а порядка 40 тысяч святынь, 4 с половиной тысяч храмов уничтожили. Особого счастья смена государственной религии У-цзуну не принесла, даосы напоили его своим «эликсиром бессмертия», от которого он в 846 году и скончался. Двадцатый император танской династии И-Цзун буддизм вернул на «круги своя», но тоже особо долго (39 лет) на этом свете не задержался. Говорят, определённый вред пещерам Луньмынь причинили победители Опиумных войн, а также японские захватчики, но это не идёт ни в какое сравнение с ущербом, нанесённым красногвардейцами или на китайском хунвэйбинами. Почти каждый раз, останавливаясь у стен более-менее древнего культового объекта, на стандартный вопрос гиду: это первозданный облик сооружения, мы получали один и тот же ответ, потрясающий с одной стороны своей откровенностью и прямотой, а с другой абсурдностью звучания: не забывайте, что у нас была Культурная революция. Сколько культурных памятников пострадало или погибло в этот период посчитать невозможно, с людьми проще. Пострадало 100… миллионов, погиб 1… миллион.
Храм Фэнсянь это художественная вершина всего комплекса Лунмэнь, но чтобы добраться до вершины, приходится карабкаться по склонам. Роль такого «склона» в нашем случае играют пещеры Биньян, вырубленные ещё в период династии Северного Вэй, они расположены непосредственно у входа на музейную территорию. Главных пещер три: Северная, Средняя, Южная. Основной персонаж – будда Шакьямуни, самый большой, 8.4 метра в Средней пещере, единственной окончательно законченной до династии Тан, в Южной пещере будда Амитабха, самый добрый из пятёрки Будд Мудрости чуть-чуть уступает размерами Шакьямуни – 8.2 метра. Статуи в Биньян погрубее, но поскольку осмотр Фэнсянь впереди, разочарования нет и в помине, рядом с тремя крупными нишами-пещерами несчётное количество мелких, тоже представляющих несомненный интерес. Ещё одно знаковое место – пещера Тысячи будд, и это, как ни странно не преувеличение, а преуменьшение, будд там вырезано около 15 тысяч, понятно, большинство совсем малюсенькие – несколько сантиметров. Ими испещрены на манер обоев две боковые стены грота, его размер 6 на 6 на 7 метров, а в центре всё тот же будда Амитабха. Не все статуи пещеры дожили до наших дней в полной сохранности, зато сохранилась надпись, из которой следует, что работы были закончены в 680 году, это время царствования мужа У-Цзэтянь императора Гао-цзуна. Осматривая пещеры, мы перемещались по западному берегу речки Ихэ, теперь перейдём по мостику на восточный, чтобы сделать несколько панорамных снимков комплекса целиком. Пожалуй стоит сказать, что гроты Лунмынь не единственный пещерный храмовый комплекс Китая, включённый в список мирового наследия Юнеско, ещё два, оставшиеся вдалеке от наших туристических троп, это Юньган и Могао. Также есть и каменные храмы-гроты не включённые в этот список, например, виденные нами в Ханчжоу рядом с Храмом Прибежища Души, Линьисы по-китайски. Говорят, монастырь там основал индийский монах ещё в первой половине четвёртого века. Храм несколько раз перестраивался и не только в связи с событиями Культурной революции. Для нас дорога к этому храму пролегает мимо нескольких каменных утёсов, по легенде они неведомым образом перенеслись прямо из Индии, с каменными нишами. Они поменьше Лунмыньских и числом, и размером, зато в лучшей сохранности, по-видимому моложе возрастом и высекались из более твёрдого материала, там известняк, тут что-то типа гранита. Персонажи этих минигротов нам уже знакомые и столько раз помянутые в суе будды, но есть один новый резко контрастирующий с другими персонаж. Если остальные будды выглядят аскетично, имеют тонкие черты и отрешённый взгляд, то наш герой не в меру упитан и беззастенчиво улыбается. Есть мнение, что это Майтрейя, будда грядущих времён, так голодные средневековые китайцы представляли себе счастливое сытое будущее. Чаще же народ именует этого весёлого толстячка Хотэйем. Это японское слово, в Китае его каноническое название более заковыристо Будай хэшанг, в переводе «монах с мешком». Легенда гласит, что в начале Х-го века жил монах Цицы, предпочитавший уединённым молитвам попрошайничество на людных базарах. Полученную милостыню он складывал в заплечную суму, либо без лишних проволочек отправлял себе в рот, отчего вскоре его живот, обтянутый рясой, стал походить на туго набитый мешок. Образ беззаботного, неунывающего толстячка многим пришёлся по сердцу, Хотэй стал популярен не только в самом Китае, но и у его соседей японцев. В Японии его, как воплощение беззаботности и удачи в XV веке даже включили в число «семи божеств счастья» и стали делать нэцкэ с его изображением в неимоверных количествах. Говорят, если животик у такого Хотэя потереть ровно 300 раз, то задуманное желание сбудется. Не могу не поделиться личной историей. Возвратясь из дальних краёв, мы привезли такое нэцкэ в подарок дочери и рассказали озвученную легенду. Она поставила статуэтку себе на полочку и как-то, проснувшись в дурном настроении, не захотела идти в школу. Сняла с полки Хотэя и принялась тереть его живот. Часа через два после процедуры ей позвонила подружка и сообщила новость – рядом со школой прорвало канализацию, и занятия отменяются. После этого дочь ещё несколько раз пыталась заставить Хотэя исполнять её сокровенные желания, но тщетно. Божок оказался одноразовым, что, учитывая его относительно небольшую стоимость, естественно.
Ну вот мы и входных ворот, прежде, чем переступить высокий порог, давайте ознакомимся с правилами посещения и основами устройства подобных учреждений. Храмы или монастыри, для буддистов это слова-синонимы, поскольку при каждом храме живут монахи, устроены скорее как счастливые семьи, много схожего, чем как несчастные, хотя, разумеется, есть особенности. В буддийский храм верующие отправляются за «тремя сокровищами»: самим Буддой, его учением, и сангхой, обществом последователей. Будда явлен страждущим скульптурами, картинами, а иногда и своими физическими останками или сопутствующими предметами, их обычно заключают в каменные ступы или в китайском варианте пагоды. Так, например, в Мьянманском Шведагоне по легенде замурованы реликвии 4 будд нашей кальпы: 7 волосков Шакьямуни, часть туники Кассапы, водяной фильтр Конагаманы и посох Какусанды. Монастыри, не обладающие подобными раритетами, возводят пагоды с менее значимыми реликвиями, например останками своих настоятелей, рядом с монастырём Шаолинь вырос целый «Лес» таких каменных пагод, он в нашей программе, но зрелище не скажу, что особенно примечательное. Учение Будды представлено священными текстами, для которых отведено если не отдельное здание - библиотека, то отдельный шкаф или стеллаж. Сангха материализуется в виде тут и там снующих монахов в одеяниях чаще всего горчичного цвета. Основной инструктаж проведён, можно, наконец, миновать входные ворота, переступив порог. Наступать на него ни в коем случае нельзя – дурная примета. Пороги в буддийских монастырях специально делают высокими, чтобы их не могли преодолеть злые духи и прочая нечисть, похоже по подсказке пророка Исайи сделали прямыми стези не только Господу. Той же цели – отгонять злых духов, служат изогнутые крыши храмов, часто дополнительно снабжённые фигурками священных животных. В Китае буддизм достаточно мягок, осматривать святыни можно и в обуви, что в большинстве буддийских стран категорически запрещено, может быть такое послабление из-за обилия народонаселения – фиг потом свои тапки найдёшь. А вот что желательно сделать – очиститься дымом, для этого во внутреннем дворике стоят массивные металлические курильницы с ароматическими палочками. Можно использовать дым от своих предварительно купленных палочек, в туристических местах, где вход по билетам, их часто выдают бесплатно, а можно окуриться и чужим дымом, сэкономив деньги для покупки даров. А даров будде (буддам) требуется не мало: и вода, и еда, и цветы, и благовония для чистоты ума, тела, взгляда, выражения благодарности, преданности, с расчётом на грядущее озарение. Миновав двор и аккуратно переступив ещё один высокий порог, попадаем в основное помещение храма. Главная жемчужина Храма Прибежища Души 19-ти метровая статуя будды Шакьямуни. Это самая большая сидячая деревянная статуя Будды в Китае. Кроме этого гиганта много персонажей поменьше, некоторые нам уже знакомы, вон золотистого цвета под резным балдахином Майтрейя – Хотей с выпяченным животом, а вот во всей красе и цвете четыре Небесных Царя, но попадаются и незнакомцы, будды сложной классификации и чисто китайские буддийские патриархи, их так много, что для них даже отдельное строение выделили.
Итак, Храм Прибежища Души, входит по некоторым оценкам в десятку главных буддийских храмов Китая, осмотрен, но наши с читателем души, я так чувствую, своё прибежище тут не нашли, а рвутся к монастырю Шаолинь. Как говорится, не вижу препятствий. Шаолинь несколько моложе Линьисы. Основан в начале V века и вначале исповедовал Даосизм, но к моменту переноса столицы империи в Лоян, это уже конец V века, и началу строительства храмов Лунмынь, тут поселились буддисты. Особую известность Шаолинь приобрёл, когда там появился основатель чань- или дзен- буддизма Бодхидхарма. Он приплыл на корабле из Индии в Китай и, всласть попутешествовав по стране, именно тут нашёл свою последнюю обитель, упокоившись с миром где-то в 536 - 540 гг. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что он постарался объединить в одном учении даосские и буддийские практики, само слово «чань» с китайского приблизительно переводится как «отстранение», «преодоление», «избавление» и обозначает технику медитации, практикуемую последователями Бодхидхармы. Чтобы достичь соответствующего состояния, нужно было тренировать особым образом не только дух, но и тело, а тут уже и до боевых искусств, по-китайски «ушу», которыми и славен Шаолинь, недалеко. Посмотреть демонстрацию этих самых боевых искусств и является основной целью визита большинства туристов в Шаолинь. Это представление мы оставим с вами на десерт, а пока быстренько осмотрим храмовые постройки. Кроваво красные стены, деревянные, покрытые изысканной росписью балки, держащие изогнутые крыши, чугунная курильница с ароматическими палочками, всё как положено образцовому буддийскому монастырю. Четыре ярко крашенных Небесных Царя застыли в боевых позах, попробуй только сунься, три одинаковых будды со свастикой на груди замерли в нирване на своих пьедесталах, а в другом помещенье возлежит, опершись на правую руку задумавшийся о мировой скорби царевич Сиддхартха Гаутама. Будда Майтрейя тоже есть, тут он белого фарфорового цвета, не так широко улыбается и более спортивного вида, видимо, физические упражнения и ему пошли на пользу. А вот ещё невиданный нами доселе персонаж – богиня Гуаньинь. Женщина в мужском монастыре! Непорядок! Хотя есть апокрифы, что у легендарного Шаолиньского мастера боевых искусств Фуху среди учеников числилась и одна женщина-воительница, виртуозно стрелявшая из лука. Но тут другой случай, вхождению в буддийский пантеон Гуаньинь больше всего обязана китайской филологии. Её имя «Наблюдающая за звуками» - дословный перевод с санскрита имени будды Авалокитешвары, отвечающего в классическом индийском буддизме за сострадание и в свою очередь являющегося эманацией одного из Пяти Будд Высшей Мудрости – краснолицего Амитабхи. Китайский перевод имени оказался как нельзя более кстати, кому же ещё отвечать за милосердие, кого ещё просить о милости, к кому обращать сокровенные молитвы, как ни к женщине, почитающие Богородицу христиане в этом вопросе прекрасно поймут китайских буддистов. Окончательно разобравшись со своим полом где-то к Х-му веку, Гуаньинь мгновенно покорила сердца простого народа практически всего Дальнего востока, её почитают и во Вьетнаме, и в Корее, и в Японии, переделав её имя немного на свой манер. Изображают Гуаньинь и в обычном облике, наш случай, и тысячерукой, и одиннадцатиглавой. Большое число рук ей необходимо для помощи максимальному числу нуждающихся, о которых она думала и скорбела так сильно, что голова её раскололась на одиннадцать частей, ставшие не без помощи Амитабхи одиннадцатью отдельными целыми головами. Кроме изображения будд, на территории храма можно увидеть небольшую выставку боевого оружия, изображения нескольких местных патриархов, но наиболее интересен следующий артефакт. Один из монахов, а может и настоятелей, столь долго и усердно молился, всегда в одном и том же месте, что его тень отпечаталась на стене. Сегодня это «изображение» заключено в стеклянный саркофаг, находится, чтобы «тень» не выцветала в полутёмном помещении, но современная фототехника позволяет запечатлеть и узреть феномен. Если это чудо, то в данном монастыре оно не единственное. Поспешим же мимо леса пагод, поставленных в память об ушедших в лучший мир монахов и настоятелей, на уже анонсированное нами выступления адептов, ещё не достигших окончательного просветления, но достаточно продвинувшихся по этому тернистому пути. Народу значительно больше, чем мест в зрительном зале, но нам повезло, мы заняли сидячие места, хотя и не в первых рядах. Демонстрация начинается со сложнейшего и главнейшего из искусств, которое должно быть понятно и понято народом (воспользуемся Ленинской формулировкой), с каллиграфии. Пожилой благовидный мастер, наверное, так выглядел Конфуций, седые длинные волосы и борода, с помощью туши и кисти на большом с красной скатертью столе на наших глазах создаёт шедевры. Его первое произведение содержало 5 крупных иероглифов, второе только два крупных, зато множество мелких, потом, наверное мастер подустал, пошли четырёхиероглифные. К сожалению, слишком поверхностное знание китайского языка и полное отсутствие понятий о каллиграфии не позволяет мне донести до читателей в каком стиле чжуаньшу, синшу, лишу, цаошу или кайшу были выполнены надписи, вероятней всего синшу – «бегущий стиль», и что они означали, кстати, иероглиф «шу» на китайском «книга». Но одно могу сказать твёрдо, сам процесс доставил мастеру несказанное наслаждение, мы случайно увидели его на воздухе после, увы, короткого - полчаса не больше, представления, мастер, глубоко затягиваясь, с удовольствием курил. Изготовленные во время сеанса надписи можно было потом купить, не купленные вставлялись в рамочку и поступали в сувенирный магазин. Одну надпись там мне даже удалось прочесть, она значила «храм Шаолинь на горе Суньшан». Состоит из пяти иероглифов «си» - храм; «шао» -немного; «линь» - лес; «сунь» - песня; «шан» - гора.
Меж тем, зрелого мастера каллиграфии на сцене сменила ватага мальчишек с палками, которыми они принялись во все стороны махать, выполняя всякие замысловатые упражнения. Говорят, в лихие времена шаолиньские монахи такими палками запросто могли отбиться от отряда воинов с мечами, копьями и прочим холодным оружием. Потом ребята продемонстрировали искусство владения своим телом без всяких палок: прыжки, сальто, перевороты и тому подобное. Дальше, show must go on, пошло вообще что-то запредельное. Сначала одного мальчишку водрузили животом на острие специального копья и стали крутить. Даже если копье не очень острое, сила собственного веса должна была нанести парню серьёзные раны, но нет, не осталось и следа. Не было отметин и у парня в горло которого упёрлись два копья, копья согнулись в дугу, а нашему герою хоть бы что. А больше всего меня поразил следующий фокус. На сцену вынесли стеклянную раму и воздушный шарик. Шарик поместили с одной стороны стекла, по другую сторону встал молодой монах с малюсенькой иголкой в руке. Сосредоточился, точный мгновенный удар, лопается шарик, а стекло покрывается сеткой трещин. Видел собственными глазами, но не верю, что иголкой можно проткнуть стекло, наверное, какое-то специальное перекалённое, да и незаметно лопнуть шарик есть масса способов. В конце представления, тоже классика жанра, пригласили из зрительного зала на сцену желающих посоревноваться с шаолиньскими монахами. Монах, акробат или артист, даже не знаю, как их тут называть, показывал какое-нибудь упражнение, а добровольцы должны были это повторить. Были и довольно рискованные грозящие травмой трюки, но всё обошлось. Больше всего аплодисментов получил доброволец, который, если не мог выполнить предложенное, придумывал что-то своё и заставлял нашего акробата плясать под его дудку.
Пора подводить итоги, наше повествование и так изрядно затянулось. Поставленные при посещении Лояна цели выполнены, этот отрезок нашего «дао» завершён, но «дэ» толкает нас дальше и мы, напевая под нос «дорога без конца, дорога без начала и конца» перемещаемся на вокзал, где утренний скоростной поезд уносит нас из Лояна в Сиань.
-
Читать отзыв21.10.25 КитайСрединная империя. Ч.12 До свиданья, наш ласковый Миша
-
Читать отзыв24.06.25 КитайСрединная империя. Ч.11 И у тебя в гостях я замечаю, что выпивая чашку чая…
-
Читать отзыв22.06.25 КитайСрединная империя. Ч.10 Всё равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели!
-
Читать отзыв17.06.25 КитайСрединная империя. Ч.9 Обнимая небо крепкими руками
-
Читать отзыв25.04.25 КитайСрединная империя. Ч.8 Коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет